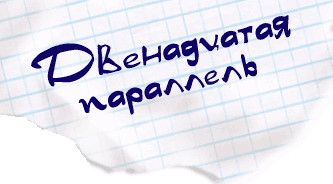

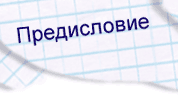
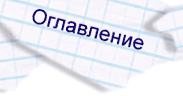
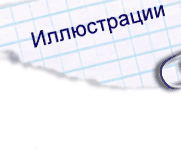

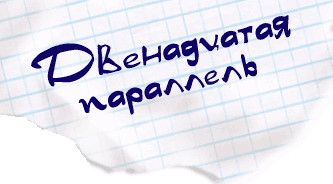  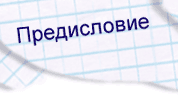 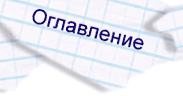 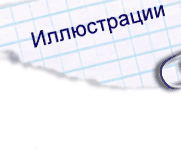  |
Ларисе Григорьевне, толкнувшей меня на грешный путь графомана
Анне Платоновой, которая проводила самые интересные уроки
РД, повернувшей мою жизнь
Аллочке, к которой я питаю некоторую нежность
Вал Мих, которую я очень, очень уважаю
Валерьянычу, Беате Валентиновне, Лене Бутар - с которыми было просто прикольно
и Павлу Петровичу, который, увы, не прототип ;)
Паша
Паша застонал в голос и откинулся на подушку, судорожно шаря рукой по тумбочке.
...Чертов будильник орал, как ангелы Судного Дня – по крайней мере, в голове был сущий Апокалипсис. Несколько раз ухватив пальцами пустоту, Паша скинул проклятую тарахтелку на пол и уже там прикончил одним точным и безжалостным нажатием на кнопку. Несколько секунд он лежал в тишине.
Итак, это случилось. Самое жестокое и самое неминуемое зло пришло в его дом: утро понедельника.
С новыми стонами он сполз с дивана и, шатаясь, побрел – ориентировочно в ванную. В комнате царили бедлам и полумрак. Паша отдернул тяжелые шторы и зажмурился: через окно ворвался бессовестно яркий свет. Кофе, и срочно. По дороге на кухню Паша наклонился за вчерашним леопардовым гольфом, насквозь пропахшим сигаретами и потом; охнув, выпрямился, рефлекторно поглаживая ягодицы.
Вчерашнего любовника, кажется, звали Лукас.
Солнечный зайчик издевательски подмигнул на лакированной черной коже брюк. Носки нашлись в коридоре. В стирку, все – в стирку... Кофе. После прохладного душа Паша ощутил себя человеком, но каким-то слегка пришибленным и явно беззащитным перед суровой реальностью. Господи, ну какой же идиот изобрел понедельники?
Выражая бурную радость жизни, запиликал оптимист-мобильник.
- Ты проснулся? – деловито осведомилась Алечка. - Ты живой? С кем вчера кувыркался?
- Его зовут Лукас... кажется.
Прижав трубку щекой к плечу, Паша распахнул шкаф. С тоской отодвинув в сторону цветастые тусовочные рубахи, достал простую, светло-серую.
- Ну и как он тебе? – Алька, будучи школьным психологом, сумела убедить всех окружающих в том, что имеет право знать о них все, поэтому Паша честно ответил:
- По самые гланды.
Следом за рубашкой из шкафа были извлечены черные брюки со стрелками, свежие носки, нижнее белье от CK: Паша к нему, ультрамодному в определенных кругах, имел слабость.
- Что-то ты без энтузиазма об этом... Ой, ладно, на перемене поговорим, мне уже выходить пора. Смотри не опоздай, не то Регина отымеет почище всяких Лукасов!
Одевшись и стараясь не делать резких движений, Паша выпил кофе, неторопливо собрался. Была своя прелесть в том, что до работы – десять минут пешком.
Солнце грело вовсю – осень вступила в свои права только формально, всего три дня назад. У самой школы Паша остановился: достал из футляра очки без диоптрий, мельком посмотрелся в карманное зеркальце. Все как обычно. Обычная суета школьных коридоров, обычные темно-синие пиджаки, от безнадежности которых он успел было отвыкнуть за лето. Обычные "Доброе утро" и "Павел Петрович, здрасте". Инфарктный визг звонка. Понедельник официально начался.
***
Первый урок в году прошел без сюрпризов. Паша вдохновенно говорил, одиннадцатый А послушно конспектировал: романика – мощные стены, башни, подъемные мосты, религиозное искусство... Девчонки на первых партах слушали с интересом, и Паша старался. Легкой рукой набросал на доске схему капителя, переслал по рядам кое-какие репродукции; потом, дав классу задание, наконец-то смог перевести дух и присесть.
...Вчера он познакомился с Лукасом. Вечер был уже в самом разгаре, голова кружилась от разноцветных коктейлей и эйфории танца. Рядом смеялась Алечка: Ольга что-то воодушевленно рассказывала ей, пытаясь перекричать музыку. Лукас не танцевал, он был слишком респектабелен, чтобы потеть. Смотрел издалека; потом подсел за их столик, угостил коктейлем – и через полчаса Паша уехал с ним, с легкостью забыв все, что обещал себе практически каждые выходные...
Со звонком кабинет рисования опустел. Хотелось курить, но Паша пересилил себя: он бросал. Пока что получалось – вот уже два месяца. Ему впервые удалось продержаться так долго, раньше он ломался в течение недели, как только приходила пятница. Выходные - значило клубы. Там даже воздух был пропитан никотином, а то и чем покрепче... Пассивное курение – как вуаеризм: когда получаешь удовольствие только таким способом, это извращение. Паша в это верил и часто предпочитал горькую правду сигареты на губах - сладкой лжи торжества силы воли.
Но если завязать с сигаретами пока получалось, то воздержаться от легкомысленных знакомств оказалось гораздо сложнее. Сигареты не имели привычки вылезать из пачки, улыбаться и заговаривать зубы. У них, слава богу, не было темных страстных глаз с лучиками морщинок, не было благородной седины в висках. И уж конечно абсурдно было бы представить сигарету за рулем новенькой хонды цвета мокрого асфальта. К тому же, если в войне с курением у него был союзник – Алечка (а вернее – Ольга, ревностно следившая за здоровьем своей сожительницы), то здесь Паша был совершенно одинок.
Миновал еще один урок, и случилось то, чего он боялся. В его тихую заводь завернул катер береговой охраны.
Самым страшным человеком в школе, после директрисы, была Марьяна Климко, завуч по внеклассной работе. Когда при учениках старших классов говорили "Климко", все как один обреченно вздыхали; закатывали глаза и учителя – те, в ком еще осталось что-то человеческое. Эта молодая женщина с кукольными глазами и невнятной улыбкой вела драм-кружок, и ни одна линейка не обходилась без ее питомцев. Дошкольники, мямлившие отвратительные стишки, вызывали разве что сочувствие; пятиклашки в костюмах цветочков, грибочков и сказочных персонажей всех мастей, от гномиков до "лени", которую детишкам полагалось с позором прогонять, дабы грызть гранит науки, - просто вставали поперек горла. Попытки привлечь контингент постарше выливались в банальную похабщину: в этом году на первое сентября две юные акселератки на здоровенных каблуках вытанцовывали что-то загадочное под "у меня две телки, я их пасу".
Увидев эту хрупкую миловидную женщину на своем пороге, Паша содрогнулся. Подумалось - ей ведь что-то около тридцати, как и ему самому. А кажется, что их разделяет целая эпоха. Она и сексом наверняка занимается только в полной темноте и под одеялом, и уж конечно только с мужем.
Климко ожиданий не обманула:
- Павел Петрович, вы ведь знаете, двадцатого августа был день рождения Андрей Сергеича, но в этом году так много хлопот, еще это профилирование... Поэтому мы с Региной Дмитриевной решили перенести дни Кончаловского на весну. Но конечно, нельзя просто так обойти и нынешний праздник, ведь не зря наша школа носит его имя!
Паша вздохнул – его слегка тошнило от псевдопатриотизма кончаловцев, - и приготовился услышать самое страшное.
- В пятницу у нас будет День Киноискусства. Ребят нужно сводить куда-нибудь, пусть приобщатся к культуре... Вы предпочитаете восьмой или двенадцатый?
Здесь всегда так делалось: добровольно-принудительные мероприятия, почетные задания... комсомольский островок в демократической системе образования свободной Литвы. Паша даже мысленно не стал возмущаться: он давно устал. Климко несла Волю Регины, а значит ей нельзя было сказать "нет", даже если речь шла о законном учительском выходном. Он представил себе орущую толпу восьмиклашек. Разница между полами настолько очевидна, что становится забавной: мальчишки еще играют в свои детские игры с беготней и воплями, девчонки носят каблуки и красят ногти, - и все они сосут одни и те же чупа-чупсы, на которых школьная столовая делает огромные деньги. В этом возрасте они на грани, за которой начинаются все самые сладкие грехи молодости, но пока еще их гораздо больше интересуют компьютерные игры, и каждый третий тайком смотрит "Покемонов". Пашу передернуло: дети его пугали. Они были громкими, быстрыми и непредсказуемыми, они выдували огромные розовые или зеленые пузыри из жвачек и истерично влюблялись в поп-идолов.
- Двенадцатый, - решил он, не медля.
- Замечательно! - Климко сделала аккуратную пометку в блокноте и торжественно удалилась.
...Так Паша дожил до Часа Кофе – большой перемены. В столовой была давка: дети, целая толпа детей. Соплячки в макияже и с химией; инфантильные юноши с отсутствующими лицами; бритоголовые пожиратели семечек и пива – не будь директриса строга насчет формы, они ходили бы исключительно в тренингах, а этого Паша не любил страшно... Он вообще был тонкой натурой. Ненавидел, когда стадно гогочут над сальными шуточками, когда бьют бутылки на природе и когда плюют на пол. Ад в его представлении был очень похож на Гарюнайский базар субботним утром: толпы, суетливые белорусы, бывшие инженеры с грустными униженными глазами, "тутейший" сленг с польским акцентом, шелуха от семечек под ногами, безвкусные шмотки и тряпки... Поэтому одеваться Паша предпочитал в модных бутиках, хотя на учительскую зарплату особо не шиканешь. Впрочем, всегда оставались виртуальные халтурки – баннеры, логотипы, - и их было достаточно, чтобы жить неплохо.
Паша мечтал о кофе: о нежном, сладком капучино с пенкой, которая тает на губах. Первый кофе в день был черным, для пробуждения, второй – легким, сливочным, для удовольствия... Вдыхая аромат Айриш Крим, учитель устроился за одиноким столиком. Настроение исправлялось... Во время урока звонил Лукас – надо же, он еще и заботливый, просто мечта молодого гея. Деньги вроде не кончались, разве что ждал выбор – продолжать откладывать на новый монитор или купить в "Акрополе*" тот обалденный свитерок... За окном светило осеннее солнце, зеленели листья и трава. Мама обещала много яблок и картошку с грибами, если он приедет навестить. Так что в общем и целом жизнь шла не так уж и плохо...
Кофе был божественным. Едва не постанывая, Паша слизывал с губ воздушную белую пену – и вдруг ощутил на себе незнакомый взгляд... Вернув лицу приличное выражение, Павел Петрович огляделся. И обомлел.
В глубине холла, у самого входа, сидела компания – две девушки и шестеро парней. Девушек он знал, они были двенадцатиклассницами. Довольно бестолковые жертвы пероксида, Катя и Алена: они нравились ему чисто по-мужски, потому что флиртовали с ним беззастенчиво. Парни были незнакомые, но Паша всем телом возжелал это исправить: дивно хороши! Высокие, ладные, весьма мужественные фигуры, оживленные лица, белозубые улыбки... они предназначались не ему, конечно: девушкам. Жеребцы. Взгляд учителя скользил по широким плечам – все как на подбор, просто мечта. Акселерации – да!!!
Он прикрыл глаза. В мысли постучалась эротическая фантазия. ...Пирожное – корзинка с шапкой кисловато-сладкого крема – падает из его рук на брюки сидящего. Того светленького, что чуть сутулится... Или симпатяги с веснушками во все лицо... Парень тянется за салфеткой, но Паша воркует – "Я почищу", и опустившись на колени, слизывает белковый крем умелым язычком... Сильные пальцы, вплетаясь в черные волосы, пригибают голову ниже, ближе...
- У тебя такой вид, будто сейчас дым из ушей повалит, - негромкий голос вернул его к реальности. На соседнем стуле устраивалась несравненная Алечка, его надежда и опора, его прикрытие в глазах стареющих сплетниц и прекрасный друг.
- Привет. Извини, задумался.
- Так задумался, что не заметил мои новые туфли? – сощурила глаза Алечка. Паша заглянул под стол.
У Альки были потрясающие ноги. Она вообще была шикарной женщиной: по выходным и дома, как он сам. В школе Регина контролировала длину юбки и высоту каблука... Однако Алечка даже при всех строгих правилах всегда выглядела хорошо. Она была молода, жизнерадостна, и она любила.
- Отпадные, - честно сказал Паша.
- Оля выбирала, - засияла польщенная улыбка.
Ольга и Алечка были парой. То есть – настоящей, семейной. Об этом, разумеется, в школе не знал никто, кроме Паши, который случайно столкнулся с ними в гей-клубе позапрошлым летом – то-то была немая сцена... Они удивительно подходили друг другу – учитель и патологоанатом – и жили в любви и гармонии вот уже четыре или пять лет. Паша ломал голову – как у них это получается?! – но не понимал. Его собственная личная жизнь представляла собой нескончаемую череду знакомств на одну ночь. На две ночи, на три, пусть на месяц – но жить вместе? Просыпаться и засыпать в одной постели? Вместе готовить и мыть посуду, ходить за покупками, обсуждать проблемы на работе?.. Нет, это было выше его сил. Алечка говорила – мол, ты просто еще не встретил правильного человека... Ольга, более прямолинейная и грубоватая, - ты еще не перебесился. Когда надоест прыгать по чужим постелям, ты подцепишь какого-нибудь богатенького папика и заживешь с ним как примерная жена.
Паша поморщился: она всегда такая. Язвительная и непробиваемая, как дверь от холодильника "Снайге". С Алечкой было не в пример проще – хотя он прекрасно знал, что судит Ольгу с предубеждением. Он уважал ее, спору нет. Раз Алечка ее боготворила, значит, было в этой дикой кошке что-то нежное, человечное... Ольга любила его: как мать - сына-неудачника. Ей было тридцать два, самое время для материнских инстинктов. Из них троих она была самой... взрослой, что ли. Повзрослеешь ненароком, кромсая трупы.
Алечка задумчиво поболтала в кофе ложечкой, звякнула о край.
- Знаешь, я иногда думаю – ведь наверняка наши ученики считают нас бездушными роботами, не способными на простые человеческие чувства. Мы не пьем и не курим, не занимаемся любовью, не ругаемся матом и видим во сне периодические таблицы и спряжения.
- Это значит, что мы хорошо прикидываемся.
- Но они не видят в нас людей, Паша.
- Не дай боже кто-то из моих учеников захочет узнать меня поближе...
Она засмеялась в ладошку, как школьница младших классов. Веселые искорки танцевали в глазах – а может, просто отражались бившиеся о стекло бабочки-однодневки.
- О чем ты думал, а? – спросила Алечка, пряча улыбку в уголки губ. Она достаточно хорошо знала Пашу, чтобы все понять и без ответа: полуприкрытые глаза, невиннейшее выражение лица, легкий румянец, и пальцы, в задумчивости кружащие по ободку кофейной чашки...
- Алечка, родная, - понизив голос, начал Паша, - кто это такие?..
Вопросов она не задавала, сразу поняв, о ком он – ей хватило одного взгляда.
- Двенадцатый Б, новенькие. Их школу разогнали. Ох, Паша, смотри мне...
- А что я? – взвился учитель.
- Не наживи проблем.
Она опустила взгляд в капустный салат, отказываясь дальше любоваться широкоплечими старшеклассниками. Паша демонстративно уставился в окно.
- Пфф! Не думал даже, - буркнул он, глотая ставший безвкусным кофе.
- А ты думай. Головой думай. Вот этой, - она постучала по Пашиному лбу коротким наманикюренным ногтем, - а если плохо будет думаться, вспоминай Регину. И не забывай, что вылетать из школы тебе очень невыгодно.
И Паша зарекся: смотреть, но под дамокловым мечом увольнения и уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних – не трогать. Это будет очень, очень трудный год... Среди бритоголовых дегенератов и инфантильных подростков Кончаловки объявились настоящие мужчины.
О крестьянах и интеллигенции
В марте 200* года на стол С.М.Милоша, директора ***ской средней школы города Вильнюса, лег приказ из Гороно, в котором значилось, что оная школа прекращает свое существование. Это не было неожиданностью. Милош безропотно покинул свой уютный кабинет, и больше никто из учеников его не видел. Только иногда всплывали слухи, что работает он теперь завхозом где-то в польской школе. В опустевшее здание переехали старшие классы переполненной литовской гимназии, - обычная практика: по слухам, комиссия из Гороно особенно любит те русские школы, в которых недавно сделан ремонт за счет родителей учащихся.
Учителя... кто-то седел, кто-то срочно переквалифицировался, кто-то на чем свет стоит материл Милоша: можно было отстоять, можно было... Но тому оставалось два года до пенсии, а бороться за иллюзии, да еще и чужие, не позволяло здоровье.
Ученики же равномерно растеклись по близлежащим школам, и так в Пашину жизнь вошла эта удивительная компания.
Шестеро парней и девушка переступили порог Кончаловки первого сентября. Шестеро парней и девушка ждали Пашу у кабинета в пятницу после уроков. Только они, новенькие, и на то была простая причина: двенадцатый Б мог выбрать между Пашей и физруком. И все, кроме этих семерых, знали: физрук отпустит, ему эти экскурсии – как трамплину нипель, а соревнования уже на носу.
- Имейте в виду, - сказал Паша, запирая кабинет, - если вы со мной, то мы действительно идем на выставку в Шмэц*. И по дороге никто не отсеивается. Мы друг друга поняли?
- Не вопрос, - кивнул высокий, кареглазый, с густыми черными бровями, почти сросшимися на переносице. Сережки в ушах, тень щетины на подбородке. Диковатый взгляд из-под бровей. При всем при этом – удивительно умное лицо. Сердце замерло: нет, они правда-правда школьники?..
Три часа спустя, выходя их дверей Шмэца, Паша уже знал, что чернобровый плечистый Эдик был в компании негласным лидером, что смазливого юношу с актерскими замашками зовут Никиш, что самоуверенный и немного раздражающий этим Диня шел по жизни, разбивая хрупкие девичьи сердца, а Ирма, как кошка, гуляла сама по себе. Маленького, но громкого Илью звали Мух, высокий Валера был его лучшим другом, и современное искусство их обоих, мягко говоря, как-то не вдохновляло. У Артема был потрясающе приятный голос, очень подходивший для дворовых песен, а сам он был прямолинеен, как черенок от лопаты.
Сентябрьский день еще не клонился к закату. Шелестели запыленные листья, теплый ветер ласкал под рубашкой. Тонул во взрывах смеха Пашин голос: "Уборщица получила выговор за попытку отскрести с пола произведение искусства, которое она ошибочно приняла за... нечто непотребное..." - и удивительно гармонично вплетался в общий хор.
Никому не хотелось расходиться по домам. До самого вечера, пока не зажглась подсветка Ратуши, они пили чай в Pieno Baras* – шесть парней, девушка и учитель, которого уговорили остаться, - и разговоры убегали в неведомые дали, но продолжали захватывать.
Распрощались, когда стемнело, и весь оставшийся вечер Паша пребывал на редкость в хорошем настроении. Не раздражали камышовые жалюзи окон с видом на Паменкальнис, не наводил тоску нежилой порядок квартиры, снятой на одну ночь. "Malonu ziuret*", - улыбался Лукас.
Да, соглашался Паша, - действительно, приятно посмотреть... Но кому же из них принадлежал тот обжигающий взгляд?..
***
Телефон запищал с самым невинным выражением кнопок, но Паша знал, что доверять ему нельзя. Несколько секунд поколебавшись, он все же снял трубку.
В ухе защебетала Алечка: мол, на дороге пробки, троллейбусы еле ползут, в магазине очередь, Оля так устала, даже по клубам не хочется... Паша слушал, поддакивал, вздыхал и ждал: что-то тут было нечисто. Сегодня весь день состоял из неприятных сюрпризов.
С утра настроение было паршивое, даром что пятница. За окном было серо, мерзко, моросило что-то мелко-пакостное. Понадеявшись на удачу, Паша выскочил без зонта – и, как назло, немедленно припустил дождь. Весь первый урок пришлось сидеть мокрому, взъерошенному и совершенно не солидному. В столовке кончился капучино. Звонила мама, и он опрометчиво пообещал приехать на выходные; Лукас поругался с женой из-за постоянных "совещаний" вечером по пятницам, поэтому секс откладывался – в лучшем случае, на неделю... Паша уже слегка начинал сходить с ума. Рабочая неделя прошла в анабиозе, он всегда оживал только к выходным, а эти выходные не предвещали ничего хорошего...
Просто бывают такие дни. Обычно – по понедельникам, но лично для Паши закон подлости делал исключение.
Алечка наконец-то окольными путями добралась до самого главного.
- Пашааа, у нас кресло поломалось...
Он вздохнул и пообещал:
- Сейчас приеду.
К вечеру потеплело. Учитель шел в куртке нараспашку, улыбаясь уголками губ. Было тихо и приятно, и усталость отступила на второй план. Хотелось жить. Хотелось целоваться посреди улицы с любимым человеком, который смотрел бы на мир такими же глазами... Но его у Паши не было: был ставший постоянным партнер. Вот просто так, по-деловому.
Прохожие исподтишка провожали завистливыми взглядами: молодой, привлекательный, стильно одетый мужчина, идет, конечно, к какой-то счастливой девушке на свидание... В такт размашистому шагу подрагивают черные прядки, упавшие на лоб. Только сигареты не хватает для завершения облика мачо... Нет. Курить он не будет.
Он действительно шел к девушке – правда, она выглядела не слишком счастливой, скорее замученной. Ольга кивнула ему и вернулась в комнату, кутаясь в махровый халат. Даже в нем она была изящнее, чем он привык ее видеть: обычно она таскала джинсы и кроссовки, злорадно называя себя "оно". В этом была вся Ольга: она язвила и издевалась над всеми, включая себя.
Пахло чем-то вкусным. Алечка выглянула из кухни, улыбнулась; без макияжа она казалась Паше красивее. Но если Ольгина работа требовала асексуальной внешности – коллеги-врачи на короткую юбку реагировали как бык на красную тряпку – то школа подразумевала как минимум взрослость, а уютная домашняя Алечка походила скорее на студентку-практикантку.
Ольга приглушила "Дискавери", прижала к животу чашку с чаем.
- Знаешь, иногда я вам, мужикам, завидую.
- Зато нам приходится кресла чинить, - философски заметил Паша, копаясь в коробке с винтиками, гайками и всяким железным мусором. - Куда ж я в прошлый раз отвертку засунул?
Ольга издевательски выгнула тонкую бровь. Прикинув ход ее мыслей, Паша возвел глаза к небу. Он иногда катастрофически не понимал, как нежная душа Алечки выдерживает эту чудовищную пошлячку.
Ольга. Очаровательный беспорядок коротких волос, турецкий загар в разъехавшемся вырезе халата. Трогательная девочка, пока молчит. Но молчит она нечасто.
Ей тридцать два.
Она счастлива.
Паша возился с креслом; пальцы пахли железом. Ему нравилось создавать иллюзию "мужчины в доме" - здесь, где он был нужен и где принимали его таким, какой он есть... Совсем по-другому все было в доме матери.
Мама. Хм. Паша вздохнул: в субботу-воскресенье он обещался копать картошку на даче. И перспектива провести два дня в привычной позе на этот раз не радовала. Полоумная родня, долгие застольные беседы и, как всегда, косые взгляды в его сторону... Жалобное лицо матери: "Павлик, женись" - и вечный ответ, шутливо-жестокий: "Замуж – пожалуйста, хоть завтра." Больше, чем гопников, Паша ненавидел только одно: когда его называли Павликом. Но маме это прощалось, как и многое другое: в конце концов, у него нервы были крепче. Мама свои измотала, когда на первом курсе Паша наконец решился ей рассказать о своей ориентации. По большему счету она смирилась, но почему-то продолжала неутомимо надеяться, что это всего лишь сложный период в его жизни. Сильно затянувшийся сложный период.
Ольга допила чай, запахнула на груди халат, уставилась в одну точку. Паша насторожился: усталую голодную Ольгу порой тянуло на проповеди. Он был благодарным слушателем, хотя национализма ее и не разделал – говорила она излишне зло.
- Вильнюс населяют крестьяне...
Он не ошибся: Ольга завела свой очередной ехидный монолог.
Она говорила о "лицах типично крестьянской наружности", которые зимой и летом ходят в стоптанных кедах, спортивных штанах и синтепоновых куртках. На макушку они нахлобучивают самого крестьянского вида шапчонку, штаны с вытянутыми коленями заправляют в шерстяные носки.
Она вспоминала о двухдневном референдуме о членстве Литвы в Евросоюзе: тогда, субботним апрельским вечером, в верхах пробежал панический ветерок - пугающе слабенькая активность... И дабы привлечь народ, была объявлена акция. Наклейки, свидетельствовавшие об участии в будущем родины, в крупных магазинах давали солидные скидки на стиральный порошок, пиво и другие продукты первой необходимости. Однако власти волновались совершенно напрасно.
- В воскресенье крестьянин вернулся с полей, вкусил цепеллинов со сметаной, луком и шкварками, выпил рюмочку беленькой, икнул довольно – и со всей своей семьей отправился в ближайший пункт голосования: решать судьбу родимого государства...
О, земля Марии, твои дети предприимчивы и просты, как олово белых центов. Сколько еще по оврагам и кюветам недораспиленных оранжевых велосипедов – ставших символом несбыточной утопии мэра Вильнюса... Увы, господин Зуокас, вашему городу еще очень далеко до Амстердама. Пусть Литва свободна как ветер – во всяком случае, была до вступления в ЕС, - у нее нравы сварливой толстой кухарки, весьма практичной в деле и не слишком много думающей о высоких материях.
Здесь торжество выливается в агрессию, и праздники завершаются битыми стеклами. Не приведи господь попасть на традиционную литовскую свадьбу. Усевшись за длинный стол, соединив в знак единства руки над головами, крестьяне раскачиваются из стороны в сторону и нестройными голосами поют...
Да, самые предприимчивые крестьяне живут в новостройках и загородных коттеджах. Они по праву могут гордо именовать себя мещанами. Легендарных слоников на буфете им заменила ванна розового мрамора в форме ракушки, не менее легендарные занавеси из бус в коридоре сменились лепниной под потолком. Особенность этого вида – навеки отмершая фантазия. Интерьер их домов изобретает дизайнер, гардероб их зависит от ассортимента бутиков в "Акрополе" и "Европе*" . Но под ароматами дорогой туалетной воды, под деловыми разговорами в навороченный мобильник, под пиджаками и жилетками, обтягивающими пивной животик, они все были и остаются простыми литовскими крестьянами: жадными, завистливыми и хитрожопыми... Всю интеллигенцию сослал еще Сталин. Кто есть у этой страны? Холина со своим балетом и Коршуновас с театром, не самые литовские люди, согласись... Да что далеко ходить: МэнсФактори* кто основал? – Алексей Терентьев, вечная ему слава. Петрович, ты ведь гордишься, что ты русский?
- Аминь, - усмехнулся Паша, не желая с ней спорить.
- Славься, Марийос жяме*! – вздохнула Ольга тяжко.
На этом месте в комнату вошла нахмуренная Алечка, и Ольга прекратила дозволенные речи.
...За окном стемнело; с креслом и ужином было покончено, и трое пили чай на кухне, как в старые добрые времена. Казалось бы, не такие уж и старые – но из литовских детей, родившихся в конце восьмидесятых, каждый второй уже не помнит русского языка. Казалось бы, не такие уж и добрые – но...
- Послушай вот это, - сказала Алечка, достав из сумки с тетрадями мятый листок.
- Сказочник?.. – тихо спросил Паша.Над небоскребом подохла вера
В силу и власть.
Запомни, брат – терроризма эра
Давно началась.
Гробы вспороли мне вены осенью,
Я полный дурак.
Я помню сербов, Вьетнам и Боснию,
Чечню и Ирак.
Скажи, пространство, кто моя Родина?
Литва или Русь?
Рожден в огромной стране был вроде я,
Но не разберусь...
Свобода типо... Ну да, прекрасно...
Но мне-то – пофиг.
Я знаю только один флаг – красный,
Знак той эпохи.
Мне серп и молот ударят в голову,
Не стоя рубля.
Я – самолет-игрушка из олова,
До встречи, земля.
Орут старухи – не делай этого!
Не лезь на карниз!
Я камикадзе, мне фиолетово.
Лететь? – только вниз!
Алечка кивнула. Бережно сложила листок в папку. Долго вдыхала аромат чая, молчала.
Сказочником посвященные называли Максима Романовского. В бывшей одиннадцатой параллели Паша уважал только его. Макс оставлял впечатление обычного замкнутого подростка – внутри он был не то эксцентричным неуравновешенным готом с уклоном в суицид, не то невротиком-нацистом, не то вовсе Просветленным. Алечка так и порхала вокруг него: школьному психологу полагалось знать, кто из учеников видит апокалиптические видения. Бритолобые гопники по неизвестной причине его боялись; похоже, опасались даже собственные родители. Девушки Макса не интересовали – да и не было среди них желающих пробить ледяную скорлупу его отчужденности. Романовский был из тех людей, над которыми вечно тяготеет свое собственное грозовое облако. Он был всегда один.
В середине прошедшей недели Сказочник сидел в столовой вместе с новыми одноклассниками – Ирмой, Эдиком, Валерой, Ильей и Никитой. И – по коже пробежал мороз, невероятно, но Паша видел своими глазами – Сказочник улыбался.
Вино, сигареты и секс
Незаметно, солнечным лучом по одеялу, проскользнул сентябрь. Пожелтели листья трогательно тоненьких березок в пашином дворе, покрылась бордовым вершина клена перед школой. Запросились в руки колючие мячики каштанов – из разломов маслянисто поблескивали коричневые бока; гладкие, будто лакированные, каштаны было приятно носить в кармане куртки, перебирать задумчивыми пальцами, бросать с моста в Нерис. За несколько дней они засыхали, темнели, скорлупа становилась бугристой; Паша каждое утро подбирал по несколько свежих, про себя решив, что последний оставит до следующего года. На удачу.
Новички сотрясали сонную Кончаловку. Они, взрослые дети, почему-то отказывались становиться серыми и скучными... Они не нарушали правил, нет – ходили в форме, как все, не опаздывали и почти не сбегали с уроков, - но в этих ребятах было что-то... живое. Рядом с ними даже дышалось легче, будто сквозняком приоткрыло дверь в затхлом чулане. Преступно заразительный хохот; утренние улыбки, искреннее "здрассте, Палпетрович" - с ними было странно, как с пришельцами.
Рядом с ними – чудо – ожил нелюдимый Сказочник: превратился в интересного и общительного, хоть все еще мрачноватого юношу.
Очаровательный Никиш, шумный Мух, нахальный Валера, строгая Ирма, рассудительный Эдик – и темный Макс-Сказочник... В учительской им дали прозвище – "великолепная шестерка", и Паша был совершенно с ним согласен.
Однажды утром выпал снег. Под удивленными солнечными лучами он растаял ко второй перемене, но в душе осталось тихое – лето кончилось. Зиму Паша любил – она все упрощала: прятала под бесформенные свитера истосковавшееся сердце в стройной упаковке торса... Осень, тянущее предчувствие зимы, пугала. Свинцовое небо на кончиках голых ветвей угнетало сильнее, чем грядущие холода. От холода можно было спрятаться, грея колени в ребрах батареи на кухне, с дымящейся кружкой супа-полуфабриката. Одиночество было внутри, и Паша знал, что вместе с долгими осенними дождями оно станет наводить тоску, спасти от которой могут только жаркие объятия.
Он все еще встречался с Лукасом. Уму непостижимо – у Паши наконец-то появился постоянный партнер... Они встречались каждые выходные, проводили вместе вечер или два, мало разговаривали; умело и изысканно занимались любовью, спокойно расставались. Лукас возвращался к жене и детям, Паша – к компьютеру и узкому диванчику; за окном неслышно опадали листья и таинственно исчезали поутру вместе с шорохом метлы дворника... Паша не был один, но почему-то тихая тоска все же приходила холодными ночами. Иногда он вставал и смотрел в монитор, писал письма каким-то совершенно ненужным знакомым, читал стихи Сказочника.
Стихи Макса-Сказочника как листовки ходили по рукам учителей. Неясно, в качестве кого Алечка их получала – психолога или учителя русского – но это и не имело особого значения. Главное – Сказочник не стеснялся открывать перед ней эту сторону своей души. По части развода на откровенности ей вообще не было равных: скрыть от этой женщины что-либо просто не представлялось возможным, хотя Паша не считал себя особо болтливым.Мы глинтвейна стакан разопьем
На двоих с моим одиночеством.
На двоих – это значит, вдвоем,
Разопьем – это стало пророчеством.
Мы в граненый стакан нальем
Цианид, такой ароматный.
Со стаканом – значит, втроем,
Значит, вечер будет приятный.
И сидели бы мы до утра,
Только звякнули вдруг оковы:
Смерть подсела, плащ подобрав,
Что ж... моя? Ну, будем знакомы...
За знакомство дернем винца:
Подогрею еще по случаю...
Я останусь собой до конца,
Разговором тебя замучаю.
И к рассвету, дурной во хмелю,
Перепутав постель с могилою,
Я старушку-смерть завалю,
И немножко ее изнасилую...
И тихонько звенела цепь:
Откровенное садо-мазо!
Поцелуй, не попавший в цель
По щеке ее слезы размазал...
Что обиделась? Видишь, косой
Я от винных, блин, испарений...
Будь ты другом – махни косой
И избавь меня от похмелья!
Что ты смотришь? Давай скорей
Добивай без суда и следствия:
Ты сама назвалась моей,
Так сама отвечай за последствия!
Кое-что он очень даже хотел бы скрыть, и пока получалось. Два дня назад – затянутое тучами небо с утра наводило злость – он шел по школьному коридору, шаги гулко бились об пол. Торопился: уже смолкли последние трели звонка, перестали хлопать двери кабинетов... Вдруг он застыл. Закрыв глаза, прислушался к ощущениям... нахмурился: пахло его любимыми сигаретами. Чертовы малолетки, да как они смеют столь цинично издеваться над его таким здравым и таким сложным начинанием!!! Решительно распахнув дверь в туалет, Паша шагнул навстречу судьбе.
У приоткрытой форточки настороженно замерли Валера и Мух. Нежная, недовыдохнутая струйка дыма из ноздрей Валеры, наивно спрятанная за спиной рука... Павел Петрович обязан был сдать их директрисе: Регина была беспощадна к курильщикам. Но... почувствовав, как что-то внутри надломилось, не Павел Петрович – Паша шагнул вперед.
- Барклай?.. – спросил он несмело, и Валера протянул ему дымящуюся сигарету. Растянутый в тысячу лет миг. Пашины пересохшие губы коснулись фильтра... Три вздоха смешались в один. Уже не таясь, затянулся и Мух, деловито присаживаясь на подоконник.
Голова чуть кружилась. Они с Валерой курили одну на двоих, улыбаясь друг другу глазами, в полной тишине затягиваясь по очереди. Отточенно-небрежным движением подносили руку ко рту, обнимали губами сигарету. Застал бы их кто-то в этот нежный момент – и Паша искал бы новую работу. Но все стало неважным – больнично-белый кафель, заждавшийся в кабинете рисования класс, Регина, школа, мир – и только дым имел значение. Только сильные пальцы, ласково и как-то интимно державшие сигарету. Только изгиб шеи под темно-синим пиджаком, когда Валера отворачивался к форточке.
Паша представил себя сигаретой и почувствовал, что сейчас задымится... он не мог оторвать взгляда от Валеркиных губ. И уже знал, о чем будет долго и обстоятельно думать этим вечером... Холодная лапа ужаса сжала все внутри: как, почему у него рождаются эти мысли... об ученике, несовершеннолетнем мальчишке, пусть даже тот шире в плечах и на полголовы выше своего учителя?
- Это какой-то бред, - шепнул он. Валерка помотал головой:
- Это любовь! - и утопил окурок в унитазе.
- Я бросил три месяца назад, - вымученно улыбнулся Паша и механически взял протянутую пачку Дирола. Один из его любовников когда-то сказал, мол, выкурить на двоих сигарету – все равно что сделать минет одному и тому же мужчине: чертовски сближает... И видимо, он был прав, потому что в серых глазах Валеры на миг промелькнуло серьезное, щемяще-свое... и тут же вернулась его обычная нахальная улыбка. Маска? Душа? Может быть, ответ был у Алечки – но Паша пообещал себе, что она ничего не узнает об этой сигарете.
Как и о тех мыслях, что были ею спровоцированы.
***
Эдик потихоньку начинал беспокоиться. В общем-то особых на то причин не было пока, но что-то смутное висело в воздухе.
Поначалу все шло отлично. Тусовка без проблем влилась в новый класс, встретили их дружелюбно и вполне даже радостно. Диня, сердцеед и порядочная сволочь, с первого же дня начал очаровывать одноклассниц, благо выбор был широкий. К первому снегу он завел уже пятую или шестую подружку. Мух везде себя чувствовал как рыба в воде, Никиш умел приспосабливаться, Ирма вообще думала только о своих высокохудожественных проектах. Артем постепенно привыкал; нашел в расписании кружков какой-то клуб авторской песни и пропадал там. Валерка – тот вообще расцвел, смена обстановки, как ни удивительно, пошла на пользу. С первых же дней сентября он как-то ожил, это заметили все.
Сам Эдик был вполне доволен. Даже личная жизнь неожиданно наладилась: тихая скромная отличница Снежана еле заметно начала строить глазки, ему одному давала списывать английский. Быстро раскусив, в чем дело, Эдик перебрался к ней на первую парту. Он вовсе не хотел быть ее парнем, ему нравились другие: раскованные, волевые, как Ирма, - но Снежанка вроде пока об этом и не мечтала. А раз так – почему бы не сделать девушке приятное своим присутствием рядом с ней?
Конечно, было все еще грустно. Они не могли не сравнивать новую школу со старой, и не всегда сравнения были в пользу Кончаловки. Нравы, правила, традиции, - многое заставляло печально усмехаться, переглядываться друг с другом: мол, вот как оно теперь будет... Дежурства на лестнице: подниматься – по правой, спускаться – по левой... Форма, - Ирма ненавидела ее, как все, что ограничивало ее свободу, "Я в клетке", - говорила она... Зато – пластиковые окна и белые подоконники, зато – ксерокс в читалке. Перемены – это сложно, но о выборе своем они не жалели. Любая школа поначалу казалась бы чужой, а назад дороги все равно не было.
Последняя осень. Последнее первое сентября, последние осенние каникулы. Потом последняя зима, последняя весна... А дальше все уже будет опять первое.
Эдик не любил грустные мысли. Он предпочитал находить хорошее вокруг, а хорошего было немало. К примеру, Сказочник. Когда Ирма увидела его впервые, она сказала:
- С этим парнем мы еще потусуемся, помяните мое слово!
И хотя все недоуменно пожимали плечами, Эдик заставил их подсесть к Максу в столовой и сам проставил чай – за знакомство. Женской интуиции Ирмы он уже давно привык доверять.
Повезло и с педагогами. Двенадцатому Б попалась обалденная классная, математичка, толковый учитель и добрый человек. Александра, по русскому, была молодой и очень привлекательной, мужская часть класса уроков ее не пропускала принципиально, да еще частенько наведывалась на переменах: Александра Анатольевна была школьным психологом. И уж конечно радовал Палпетрович, учитель рисования, свой мужик и вообще чумовой фрукт. Ох и посмеялись они с Ирмой и Никишем, когда прибалдевший Мух – глаза по пять литов – рассказывал, как втроем курили на уроке...
И все вроде было здорово... только что-то захандрил Валера. Вот уже неделю он ходил какой-то тихий и непохожий на себя, задумчивый, рассеянный... Ирма долго приглядывалась, потом выдала:
- Эд, мне кажется, мальчик серьезно влюбился.
Эдик поперхнулся пивом и долго кашлял, садюга Никиш с удовольствием мутузил его по спине. Сказанное было очень похоже на правду, вот только Ирма не знала одной мелочи...
Давным-давно, когда Ирма еще игралась с куклами-барбями и закатывала истерики, если на обед была цветная капуста, жили-были в соседних домах два мальчика. Одного мама звала Валерик, другого – Эдвардэк. Как и полагается мальчикам, играли в войну всем двором, еще не подозревая, что совсем скоро увидят танки на улицах родного города... Танки пришли и ушли, сменилась власть, дети пошли в школу. Они продолжали играть вместе: машинки, солдатики, конструкторы... На игрушках еще тогда не было надписи "маде ин кореа", но от этого они не становились менее увлекательными. Иногда, как водится, мальчики дрались; иногда – сладко замирало внизу живота – трогали друг друга, наивно и любопытно до жадности. Дети, познающие мир, познающие друг друга, всегда чисты, хотя и приподнимают завесу запретного.
Годы шли, время измерялось уроками и переменами. Мальчики превратились в Валерку и Эдика. Теперь они редко оставались наедине: в их класс пришел Илья, став Валерке лучшим другом. Только однажды – им тогда было по пятнадцать – доломав Эдикову компьютерную приставку, вспомнили детство. Все началось с шуточек, а закончилось тридцатью минутами жарких объятий и поцелуев. Эдик всегда был авантюристом. Валера... горячий, страстный, совсем непохожий на девчонок, с которыми доводилось целоваться, у него были нахальные руки, залезавшие под одежду – и Эдик, не желая уступать инициативу, раздевал его. Вышло так, будто поспорили, будто на "слабо": забыв о стеснении, о вбитых родителями приличиях, об анекдотических стереотипах... Голые лежали на кровати, целовались со страстью новобрачных, ласкались везде, ласкались, пока оба не... Вот этот момент Эдик вспоминал с некоторым смущением. Как тут не смутиться – если первый оргазм, не считая собственных экспериментов, был с парнем...
Потом они на кухне пили чай, невпопад смеялись и краснели, глядя друг на друга, как заговорщики. Было немножко неуютно, немножко стыдно... Эдик не жалел, что это случилось, но больше не хотелось. С девчонками он чувствовал себя как-то надежнее, проще. Ну а Валерка... Несколько раз он намекал, что не против зайти дальше. Эдик отшучивался. Со временем все это как-то затерлось, забылось, и жизнь шла по-старому...
Валера, как и все они, периодически кадрил на школьных дискотеках накрашенных под Бритни и Агильеру девчонок. Как все, водил их на третий этаж, тискал в темноте коридора. Но для него это было нечто обыденное, вроде уроков английского. Затяжка сигареты или бряцанье простеньких аккордов на гитаре вызывали в нем больше эмоций. Со стороны это не было заметно – но Эдик хорошо помнил, каким счастливым и нежным может быть лицо Валеры, когда ему действительно хорошо.
Они выросли под два метра, и весной обоим стукнет восемнадцать. Эду – когда еще не полностью растает грязно-серый лед у дорог, Валере – перед экзаменами, когда малолетки будут искать пятилистники в гроздьях сирени.
Ирме стоило верить, о, Эдик всегда говорил, что одна такая девчонка мудрее десяти парней... Она не бросала слов на ветер. Эдик отхлебнул пива, задумчиво захрустел орешками. Она считает, что Валера влюбился... Вполне логичный вопрос напрашивается – в кого же?..
***
Стиснув зубами уголок подушки, замер, борясь с желанием мягко, сладко, протяжно застонать. Задержал дыхание – пока предельно явственно не ощутил тяжелые удары сердца. Шумно, чуть не захлебнувшись, втянул густой воздух: валерьянка на тумбочке матери, вареное мясо и лук на кухне, что-то спиртное в соседней комнате. Сквозь узорчатое стекло двери – голубой свет телевизора: мать смотрит "Барас*". Хорошо.
Дыхание успокаивалось. К влажной спине прилипла простыня, кожа медленно остывала; не простыть бы, - подумал и завернулся в одеяло.
Тело расслаблялось. Слегка подрагивало, снова и снова всплывали в голове красочные образы. Узкая полоска тела между ремнем и облегающей маечкой... Движения, от которых натягивается ткань брюк... Влюбленные взгляды девчонок, от которых в горле клокочет ревность... Взмах влажными от пота волосами цвета воронова крыла... Острое желание сжать в объятиях, впиться в губы, до стонов терзать, теребить, покусывать...
Кайфа или боли было больше в этом оргазме – Валера не знал.
- Где ты, - беззвучно шевельнулись губы, - с кем ты...
Опять вспоминал вчерашний вечер... В актовом зале ревели колонки. Глухие удары ритма отдавались в ногах, и Ему, кажется, с трудом удавалось стоять спокойно. Музыка пульсировала в Нем, тянула – туда, в толпу, где бурлят подростковые гормоны, где девочки в коротеньких юбочках двигаются пленительно и легко, а пацаны исподтишка поедают их глазами... Школьная дискотека. Пульс стробоскопа. Пестрые зайчики бэйбистаров. Романтичные звездочки, рассыпающиеся по полу от зеркального шара. Их мир.
Дежурство во время дискотеки учителя считают пыткой. Их можно понять. Это пытка – невозможность слиться с восхитительным жарким дыханием танца, стоя совсем рядом, за стеной... Ученики выныривают из пестрой тьмы вспотевшие и раскрасневшиеся, бегают в классы за дезодорантами и лимонадами, прикольно смотрясь в своих коротеньких маечках и топах рядом с одевшимися по погоде учителями, и вновь скрываются в ритмичном безумии. И глаза их блестят, а завучи мучительно смотрят на часы.
Он дежурил – чуть в стороне от других, чуть ближе к сердцу света и звука, мысленно шепча слова песен. Танцпол звал, как наркотик. Валера следил из темноты, из эйфории – все время лицом к двери. Беззвучно звал: иди сюда, иди ко мне, ты ведь хочешь, я знаю... О, он хотел. Он выдержал час; потом нарочито-небрежным шагом вошел в пеструю темноту.
Господи, какое тело он прячет под просторными свитерами...
Господи, какие взгляды он прячет под стеклами очков...
Господи, какие танцы он прячет под обычной скованностью движений...
Господи, какие еще тайны он прячет под маской учителя?..
1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18
FAQ | Предисловие | Оглавление | Иллюстрации | Цитрина на diary.ru | Основной сайт